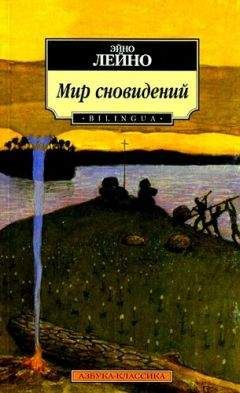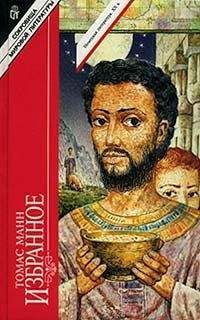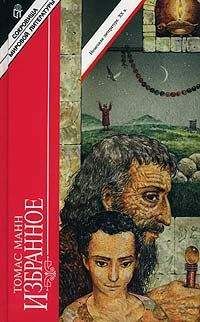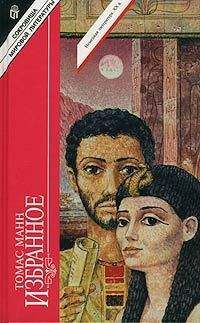Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]
Обустройство жизни было столь богато, столь многообразно, столь перегружено, что для самой жизни почти не оставалось места. Каждая деталь из этого обустройства являлась столь драгоценной, столь красивой, что амбициозно высилась над своим назначением, приводила в растерянность, поглощала внимание. Зигмунд родился в изобилии, он, без сомнения, к нему привык. И все же тот факт, что изобилие не прекращалось, настойчиво продолжал его занимать, волновать, возбуждать постоянным сладострастием. Вольно или невольно он чувствовал себя в нем подобно господину Ааренхольду, упражнявшемуся в искусстве вообще ни к чему не привыкать…
Он любил читать и, повинуясь глубокому инстинкту, стремился завладеть словом и духом как оружием. Но ни разу он не отдавался книге, не терялся в ней, как теряется человек, которому какая-либо книга становится самой важной, единственной, отдельным миром, за пределы которого он и не выглядывает, в который зарывается и погружается, дабы слизать лакомство еще и с последнего слога. Книги и журналы текли рекой, он мог купить их все, кипы вокруг него росли, он желал читать, но масса того, что нужно прочитать, вызывала беспокойство. Однако книги отсылались переплетчику. В прессованной коже, с красивым знаком Зигмунда Ааренхольда, роскошные и самодостаточные, они стояли на полках и отягощали жизнь, как имущество, которое не удавалось покорить.
День принадлежал ему, день был свободен, дарован со всеми часами от восхода до заката солнца; однако Зигмунд не находил в себе времени для желаний, не говоря уже о свершениях. Он не был героем, не обладал богатырской силой. Роскошные приспособления, приготовления к тому, что могло бы стать настоящим, серьезным, отнимали все, чем он располагал. Сколько забот и душевных усилий уходило на продуманный и совершенный туалет, сколько внимания на контроль за гардеробом, запасами сигарет, мыл, духов, сколько решительности в повторяющийся дважды, а то и трижды на дню момент, когда нужно было выбрать галстук! Но ведь нужно! Ведь в этом же все и дело. Пусть светловолосые бюргеры таскают ботинки на шнурках и отложные воротнички. Но он, его вид должен быть безукоризнен, безупречен с головы до пят…
В конце концов, большего от него никто и не ожидал. Бывало, в минуты, когда в нем слабо шевелилось беспокойство о том, что могло бы стать «настоящим», он ощущал, как именно дефицит ожиданий со стороны парализовал и унимал это беспокойство… Время распределялось в доме с той точки зрения, чтобы день по возможности протекал быстро и без ощутимой пустоты часов. Постоянно близилась очередная трапеза. Ужинали до семи; вечер — время праздности с чистой совестью — был длинным. Дни исчезали, и также споро приходили и уходили времена года. Два летних месяца проводили в небольшом замке на озере, в обширном и нарядном саду с теннисными площадками, прохладными парковыми дорожками и бронзовыми статуями на стриженом газоне, а третий — на море, в горах, в гостиницах, силившихся по тратам превзойти домашний уровень… Еще недавно, в зимние дни он порой велел отвозить себя в институт, дабы послушать в удобное время лекции по истории искусств; он больше не посещал их, ибо остальным слушателям, по мнению его обонятельных нервов, следовало бы значительно чаще мыться…
Вместо этого он ходил с Зиглиндой гулять. Она была рядом с начала начал, была предана ему с тех самых пор, как оба пробормотали первые звуки, сделали первые шаги, и у него не было — никогда не было — иного друга, кроме нее, рожденной вместе с ним, его изысканно-украшенного, темно-прелестного двойника, чью узкую и влажную руку он держал, в то время как мимо них проносились богато декорированные дни с пустыми глазами. Они брали с собой на прогулки свежие цветы, букетики фиалок, ландышей, которые нюхали поочередно, а иногда и одновременно. На ходу со сладострастным и небрежным упоением они вдыхали дивный аромат, нежились им подобно эгоистичным больным, опьянялись подобно безнадежным, внутренним жестом отталкивали дурно пахнущий мир и любили друг друга своей возвышенной бесполезности ради. Но то, что они говорили, было слажено остро и искрометно, било по встречавшимся им людям, виденному, слышанному, читанному, что было сделано друг ими — теми, которые на то и существовали, чтобы послужить поводом для слова, характеристики, остроумной реплики…
Затем появился фон Беккерат, из министерства и знатной семьи. Он добивался руки Зиглинды и заручился при этом благосклонным нейтралитетом господина Ааренхольда, заступничеством госпожи Ааренхольд и горячей поддержкой Кунца, гусара. Он был терпелив, старателен и бесконечно учтив. И наконец, неоднократно заявив Беккерату, что она его не любит, Зиглинда начала смотреть на него испытующе, выжидающе, молча, блестяще-серьезным взглядом, который говорил не на языке мыслей, как взгляд животного, — и сказала «да». И Зигмунд, которому она была покорна, сам оказался причастен к этому исходу, он презирал себя, но не воспротивился ему, поскольку фон Беккерат из министерства и знатной семьи… Бывало, когда он работал над своим туалетом, сросшиеся брови образовывали у него над переносицей две черные складки…
Он стоял на вытянувшей перед кроватью лапы шкуре белого медведя, в которой утопали ноги, и, полностью омывшись ароматической водой, надевал фрачную рубашку с защипами. Желтоватый торс, по которому скользил накрахмаленный поблескивающий лен, был худосочным, как у мальчика, и при этом мохнатым от черных волос. Затем он надел панталоны черного шелка, черные шелковые носки, черные подвязки для носков с серебряными зажимами, натянул выглаженные брюки, черная ткань которых отливала шелком, закрепил на узких плечах белые шелковые подтяжки и, поставив ногу на табурет, принялся застегивать пуговицы лаковых туфель. Постучали.
— Можно войти, Гиги? — спросила из коридора Зиглинда.
— Да, заходи, — ответил он.
Она вошла уже одетая, в платье зелено-бирюзового блестящего шелка, квадратный вырез которого был щедро обвязан экрю. Над поясом два вышитых павлина, повернувшись друг к другу, держали в клювах гирлянду. Волосы Зиглинды, густо-темные, не были теперь украшены, однако на обнаженной шее цвета набежавшей морской пены лежал крупный драгоценный камень в форме яйца, закрепленный на тонкой жемчужной нити. На руку она перебросила тяжелую, вязанную с серебром шаль.
— Не смею утаивать от тебя, — сказала она, — что экипаж ждет.
— Осмелюсь предположить, что у него достанет терпения еще на две минуты, — ответил он, ударом на удар. Вышло десять минут.
Она села на обтянутый белым бархатом шезлонг и стала наблюдать, как он еще прилежнее принялся работать. Из вороха галстучных цветов он выбрал белую пикейную ленту и, встав перед зеркалом, начал перебрасывать концы в бант.
— Беккерат, — сказала она, — тоже носит цветные галстуки и все еще завязывает наискосок, как было модно в прошлом году.
— Беккерат, — сказал он, — самое тривиальное из всех существ, которые мне довелось повстречать. — И, повернувшись к ней и сморщив при этом лицо, как человек, глаза которому слепит солнце, добавил: — Кстати, просил бы тебя сегодня не упоминать более этого германца.
Она коротко рассмеялась и ответила:
— Позволь заверить тебя в том, что это не составит мне никакого труда.
Он набросил пикейный жилете глубоким вырезом и сверху надел фрак — претерпевший пятикратную примерку фрак, нежно-шелковая подкладка которого ласкала проскальзывающие в рукава кисти рук.
— Посмотрим, какие пуговицы ты выбрал, — сказала, подходя к нему, Зиглинда.
Это был аметистовый гарнитур. Пуговицы на манишке рубашки, на манжетах, на белом жилете были того же рода.
Она смотрела на него с восхищением, с гордостью, с благоговением — глубокая, темная нежность в блестящих глазах. Поскольку губы ее так мягко смыкались, он поцеловал ее в губы. Они сели на шезлонг, чтобы еще немного поласкаться, как любили.
— Ты опять совсем-совсем мягкий, — сказала она и погладила его выбритые щеки.
— Твои руки подобны атласу, — сказал он и провел ладонью по нежному предплечью, одновременно вдыхая фиалковый аромат ее волос.
Она поцеловала его в закрытые глаза, он поцеловал ее в шею, сбоку от драгоценного камня. Они поцеловали друг другу руки. Каждый из них со сладостной чувственностью любил другого избалованной, изысканной ухоженности и приятного запаха ради. В конце концов они принялись играть, как щенята, кусаясь одними губами. Затем он встал.
— Мы ведь не хотим сегодня опаздывать, — сказал он, прижал еще горлышко маленького флакона духов к носовому платку, растер каплю на узких красных руках, взял перчатки и объявил, что готов.
Он погасил свет, и они прошли по красновато освещенному коридору, где висели старые темные картины, мимо органчика вниз по лестнице. На площадке первого этажа ждал с верхней одеждой Венделин, огромный в своем длинном желтом пальто. Они дали себя одеть. Темная головка Зиглинды наполовину исчезла в воротнике из серебристой лисы. В сопровождении слуги они вышли через каменную прихожую на улицу.